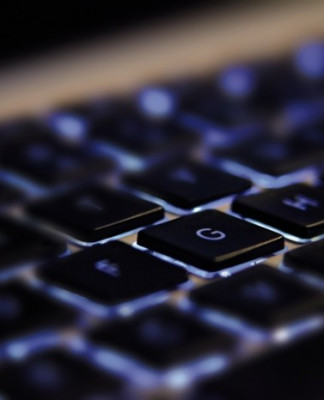«Гамлет» является одним из самых востребованных театром произведением
Не счесть количества постановок этой трагедии в России сегодня. В Театре Наций блистает Евгений Миронов, в Театр им. Ермоловой — Александр Петров. Однако самой известной постановкой по праву считается спектакль Юрия Любимова с Высоцким в роли Гамлета. Всякий раз режиссеры и художники демонстрировали свое видение Шекспировской трагедии.
История услужливо предоставляет массу прекрасных примеров, как можно «решить» Гамлета. Вид Эльсинора менялся, как облако, о котором говорил Гамлет с Полонием. То оно кажется схожим с ласточкой, то с китом, то с верблюдом.
В пьесах Шекспира действие вольно перебрасывается с берега моря во дворец, из тронного зала в спальню, с балкона на площадь. Это ставило в затруднительные условия художников всех постановок. Они порой пытались более или менее старательно воспроизводить эти разнообразные места действия, их характерные особенности. Задача казалась просто непреодолимой. И приходилось по-своему исправлять Шекспира. Объединялись эпизоды, приспосабливались к своим возможностям. Но любопытно, что возможности, развиваясь и умножаясь, не облегчали решение задачи, а часто все дальше уводили от непосредственного контакта с миром драматургии Шекспира.
«Гамлета» ставили в отвлеченных золоченых ширмах. Местом действия было неопределенное мировое пространство. И Гамлет произносил свой знаменитый монолог «Быть или не быть» на фоне пивных бочек в погребе в обжитом феодальном поместье с баней и скотным двором.
На сцене возводили в буквальном смысле слова Данию-тюрьму с невиданной толщиной стен, тяжелыми коваными орнаментами. Тюрьму внушительную, но и достаточно помпезную — все-таки королевский замок.
То вдруг Эльсинор превращался в узорчатый персидский дворец, и Офелия являлась перед зрителями в шальварах, а пейзаж удивительно напоминал горы Кавказа.
Но, как писал один известный английский театральный критик, думать, что Шекспира могут «задавить» блестящие декорации, значит просто недооценивать его как драматурга. В равной мере полагать, что до сегодняшнего дня никто не сделал декораций лучше, чем нынешние, по меньшей мере самонадеянно. А такая точка зрения порой проскальзывает в суждениях увлекающихся критиков.
Уважение к истории и попытка пристроиться к кому-то, повторить когда-то найденное — разные вещи. Все расчистить, снять все предыдущие наслоения, остаться один на один с Шекспиром, нашим современником. Эта «расчистка» уже сама по себе может стать началом нового.
Все просто и реально в спектакле Театра на Таганке. Петух начинает своим «кукареку» новый день. Закусывают вареным яйцом могильщики рядом с кучей земли, вырытой из могилы, устроенной тут же на «переднем крае» сцены. И рядом призрак отца Гамлета, совсем не какая-то тень с загробным голосом. А простой и вполне земной человек. Странно, что его не видит Гертруда, видит же его и Гамлет, и мы. Гамлет живет в реальности не вымышленной, не приукрашенной, лишенной какой бы то ни было театральности и помпезности.
То, что сделал в спектакле декоратор Д. Боровский, невозможно отделить и рассмотреть изолированно — это значит разрушить спектакль начисто. Художник не изображает какую-то жизнь, не создает отдельные картины, могущие быть и впечатляющими и эффектными, не погружает актеров в выдуманную среду.
Сцена — просто сцена, открытая и пустая до задней кирпичной стены. Правда, стена эта побелена. Белая поверхность с массивными деревянными креплениями на ней и портал, конечно, вызывают ассоциации с ритмами старых английских домов. Но не это главное. Самое интересное, как художник на пустой сцене, отказываясь от сочинения иллюстраций к происходящему, между тем участвует в спектакле самым активным образом. Он участвует в действии и, более того, провоцирует это действие.
Боровский вместе с режиссером Ю. Любимовым придумали в спектакле занавес. Он не отделяет зрительный зал от сцены. Этот связанный из грубой шерсти занавес может двигаться по сцене в любом направлении. Для него нет ничего недоступного. От него нельзя скрыться, увернуться. Как тяжелое мохнатое крыло, он может и смести все на своем пути. Занавес ничего не изображает, не выражает. Это просто плоскость, поверхность со своей фактурой в пространстве.
Специально сконструированное устройство, техническое приспособление обеспечивает то, что эта плоскость становится движущейся. Нисколько не меняясь, она играет между тем разные роли, обладает способностью к самым невероятным превращениям. Но все становится возможным только во взаимодействии актера, художника, режиссера и зрителя. Эти превращения заранее рассчитаны.
Вязаный шерстяной занавес? Да, это бесчисленные глухие каменные переходы замка, где снует вечно суетящийся Полоний и тащит упирающуюся Офелию на разговор к королеве. Каменные непроницаемые стены? Но отчего так удобно подслушивать, подглядывать, вцепляясь, пальцами в свободную вязку шерсти, все выследить, всегда быть рядом.
Ажурный, пропускающий свет фон, бросающий какие-то загадочные тени на пол? Но какими железными тисками он держит в своих объятиях Офелию! Это непробиваемая железная стена.
Железная? Но отчего так легко примешает она любую форму, так мягка и податлива. Это тронный зал во дворце, где сидят Гертруда и Клавдий. Нет, это ветер, сбивающий с ног стражников, стоящих на часах у замка. Это качели, на них раскачивается еще счастливая Офелия. Это распятие Гамлета. Это возникающая и постепенно перестраивающаяся на наших глазах архитектура.
И, наконец, мак только не пытались определить критики символическое философское значение занавеса в спектакле, видя в нем движение времени, спрессованного в тысячелетия, неотвратимость судьбы, истории.
И действительно, нелегко сразу же, в одном слове определить многозначность и неожиданность ассоциаций, которые рождаются во время спектакля. И все это по поводу занавеса, движущегося в пространстве! Если бы его вдруг изъять из контекста действия и экспонировать на выставке, он был бы просто отличным образцом современного гобелена, которым, как наиболее выразительным в архитектуре, интерьере увлекаются сейчас художники во многих странах.
Сам по себе занавес не связан ни с драматургией Шекспира, ни с материальной культурой эпохи. Но действуя, он помогает выявить смысловое и поэтическое образное начало, заложенное в спектакле — в спектакле о мужестве Гамлета, живущего в мире, с которого сняты все покровы, и страшная правда предстает в обнаженной и простой реальности.
Применимо ли вообще слово «декорация» к этому занавесу? Случайно ли, что один из кинокритиков назвал его монтажными ножницами? Занавес позволяет объединять разрозненные эпизоды, создает непрерывность действия.
Занавес оказывается, как сказали бы в 20-е годы, аппаратом для игры, элементом внутренней конструкции спектакля как пластического и ритмического целого. Художник рассматривает его не как статический, неизменный момент зрительной композиции. Он для него «машина для игры», которую можно оценить только в движении. То есть художник подходит к своей роли в театре с позиции режиссуры, ритма, неразрывности связей декорации и действия в каждый миг спектакля.
Алексей Хитцер